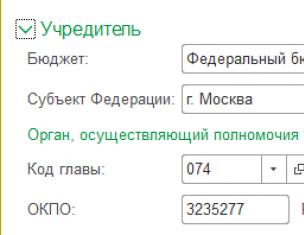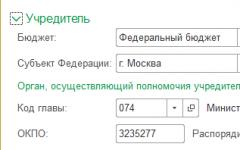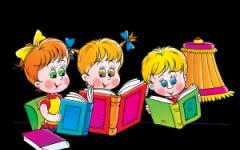Предисловие
Хотя экзистенциальное направление и является самым значительным из появившихся в европейской психологии и психиатрии на протяжении двух последних десятилетий в США, оно стало известно только несколько лет назад. С тех пор некоторые из нас обеспокоены тем, что оно может стать слишком популярным в некоторых сферах, особенно в национальных журналах. Но мы можем утешиться словами Ницше: "У первых приверженцев какого-либо движения не бывает аргументов против него".
Мы также можем успокоить себя замечанием о том, что в настоящее время есть две причины, побудившие интерес к экзистенциальной психологии и психиатрии в этой стране. Первая – стремление примкнуть к движению, имеющему шансы на успех, стремление всегда опасное и практически бесполезное и для познания истины, и для попыток понять человека и его отношения. Другое стремление – более спокойное, глубокое, выражается в мнении многих наших коллег, которые считают, что доминирующее сегодня в психологии и психиатрии представление о человеке неадекватно и не дает нам той основы, в которой мы нуждаемся для развития прикладной психотерапии и различных исследований.
Все, что есть в этой книге, исключая библиографию и некоторые отрывки, добавленные к первой главе, было представлено на симпозиуме по экзистенциальной психологии Американской психологической ассоциации в Цинциннати в сентябре 1959 года. Мы приняли предложение "Рэндом Хауз" издать эти статьи не только из-за большого интереса, проявленного к ним на симпозиуме, но и из-за нашего убеждения в том, что дальнейшие исследования в этой области являются абсолютно необходимыми. Мы надеемся, что эта книга сможет послужить стимулом для студентов, интересующихся данной проблемой, и сможет подсказать темы и вопросы, которыми следует заняться.
Таким образом, наша цель состоит не в том, чтобы дать систематическое представление об экзистенциальной психологии или ее характеристику – это пока не может быть сделано. Настолько, насколько это возможно, это осуществлено в первых трех главах сборника "Экзистенция" (17),. Эти статьи скорее пытаются показать, как и почему некоторые из тех, кто интересуется экзистенциальной психологией, "встали на этот путь". Некоторые из этих статей импрессионистские, такими они и были задуманы. Глава, написанная Маслоу, освежающе пряма: "Экзистенциальная психология – что в ней есть для нас?" Статья Фейфела иллюстрирует, как этот подход дает нам возможность психологического исследования такой значительной области, как отношение к смерти; отсутствие исследований этой проблемы в психологии давно бросается в глаза. Во второй главе я пытаюсь представить структурную основу психотерапии в русле экзистенциальной психологии. В статье Роджерса обсуждается в основном отношение экзистенциальной психологии к эмпирическим исследованиям, комментарии Олпорта относятся к некоторым общим выводам наших исследований. Мы надеемся, что библиография, составленная Лайонсом, будет полезной студентам, которые захотят прочесть что-нибудь еще о многочисленных проблемах в этой области.
Ролло Мэй
1. Ролло Мэй. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В этом вступительном эссе я бы хотел рассказать о том, как появилась экзистенциальная психология, особенно на американской сцене. Затем я хотел бы обсудить некоторые "вечные" вопросы, которые в психологии задавали многие из нас, вопросы, взывающие, как нам кажется, именно к экзистенциальному подходу, и обозначить некоторые новые акценты, которые этот подход придает центральным проблемам психологии и психотерапии. Наконец, я хочу указать на некоторые трудности и нерешенные проблемы, перед лицом которых стоит экзистенциальная психология сегодня.
Отметим для начала любопытный парадокс: несмотря на враждебность и явное недоверие по отношению к экзистенциальной психологии в этой стране, в то же время имеет место глубокое сходство между данным подходом и американским характером и мышлением как в психологии, так и в других областях. Экзистенциальный подход очень близок, например, к мышлению Уильяма Джеймса. Возьмите, например, его акценты на непосредственность опыта и единство мышления и действия, акценты, которые были для Джеймса такими же важными, как и для Кьеркегора. "Для индивида истинно лишь то, что он лично воплотил в действии" – эти слова, провозглашенные Кьеркегором, хорошо знакомы многим из нас, воспитанным в духе американского прагматизма. Другим аспектом работ Уильяма Джеймса, выражающим тот же подход к реальности, что и экзистенциальные психологи, является важность решимости и включенности – его убежденность в том, что невозможно узнать истину, восседая в кресле, а желание и решимость являются предпосылками к открытию истины. Далее, его гуманистическая направленность и полнота его бытия как человека позволили ему включить в свою систему размышлений искусство и религию, не жертвуя научной целостностью, – это представляет собой другую параллель с экзистенциальной психологией.
Но эта удивительная параллель при ближайшем рассмотрении перестает казаться столь неожиданной, поскольку, когда Уильям Джеймс вернулся в Европу во второй половине XIX века, он, как Кьеркегор, который писал тремя десятилетиями ранее, подключился к наступлению на гегелевский панреализм, который отождествлял истину с абстрактными концепциями. Оба, и Джеймс, и Кьеркегор, посвятили себя переоткрытию человека как существа полного жизни, решимости и непосредственного опыта бытия. Пауль Тиллих писал:
"Как американские философы Уильям Джеймс и Джон Дьюи, так и философы-экзистенциалисты отказались от идеи о "рациональном" мышлении, отождествляющем Реальность с объектом мысли, с отношениями или "сущностями", в пользу такой Реальности, какой человек ее воспринимает непосредственно в своей действительной жизни. Следовательно, они заняли место рядом с теми, кто рассматривает непосредственный опыт человека как более полное открытие сущности и отдельных черт Реальности, чем познавательный опыт человека" (68).
Это объясняет, почему те, кто интересуется терапией, в большей степени готовы иметь дело с экзистенциальным подходом, чем те наши коллеги, которые заняты лабораторными исследованиями или созданием теорий. Нам по необходимости приходится иметь дело непосредственно с бытием человека, который страдает, борется, переживает различные конфликты. Этот "непосредственный опыт" становится нашим естественным окружением, и дает нам как повод, так и данные для нашего исследования. Нам приходится быть подлинно реалистичными и "практичными" в том отношении, что мы имеем дело с пациентами, чьи тревоги и страдания не будут излечены теориями, какими бы блестящими они ни были, или какими бы то ни было всеобъемлющими абстрактными законами. Но посредством взаимодействия в процессе психотерапии мы получаем такую информацию и достигаем такого понимания человеческого бытия, которого невозможно было бы достичь каким-либо другим путем; никому не откроются глубинные уровни его существа, скрывающие его страхи и надежды, иначе как через болезненный процесс исследования его конфликтов, благодаря которому он имеет некоторую надежду на преодоление барьеров и облегчение страданий.
Тиллих назвал Джеймса и Дьюи философами, но они, конечно же и психологи, – возможно, наши величайшие и наиболее влиятельные и во многом самые типичные американские мыслители. Взаимовлияние этих двух дисциплин указывает на другой аспект экзистенциального подхода: он имеет дело с психологическими категориями – "опыт", "тревога" и так далее, – но он интересуется пониманием этих аспектов человеческой жизни на более глубоком уровне, который Тиллих назвал онтологической реальностью. Было бы ошибкой думать об экзистенциальной психологии как о воскресении старой "философской психологии" девятнадцатого века. Экзистенциальный подход не представляет собой движения назад к кабинетным спекуляциям, но является попыткой понять человеческое поведение и опыт с помощью основополагающих структур, – структур, лежащих в основе нашей науки и нашего представления о человеке. Это попытка понять природу тех людей, которые получают опыт, и тех, с которыми это только случается.
Предисловие
Хотя экзистенциальное направление и является самым значительным из появившихся в европейской психологии и психиатрии на протяжении двух последних десятилетий в США, оно стало известно только несколько лет назад. С тех пор некоторые из нас обеспокоены тем, что оно может стать слишком популярным в некоторых сферах, особенно в национальных журналах. Но мы можем утешиться словами Ницше: "У первых приверженцев какого-либо движения не бывает аргументов против него".
Мы также можем успокоить себя замечанием о том, что в настоящее время есть две причины, побудившие интерес к экзистенциальной психологии и психиатрии в этой стране. Первая - стремление примкнуть к движению, имеющему шансы на успех, стремление всегда опасное и практически бесполезное и для познания истины, и для попыток понять человека и его отношения. Другое стремление - более спокойное, глубокое, выражается в мнении многих наших коллег, которые считают, что доминирующее сегодня в психологии и психиатрии представление о человеке неадекватно и не дает нам той основы, в которой мы нуждаемся для развития прикладной психотерапии и различных исследований.
Все, что есть в этой книге, исключая библиографию и некоторые отрывки, добавленные к первой главе, было представлено на симпозиуме по экзистенциальной психологии Американской психологической ассоциации в Цинциннати в сентябре 1959 года. Мы приняли предложение "Рэндом Хауз" издать эти статьи не только из-за большого интереса, проявленного к ним на симпозиуме, но и из-за нашего убеждения в том, что дальнейшие исследования в этой области являются абсолютно необходимыми. Мы надеемся, что эта книга сможет послужить стимулом для студентов, интересующихся данной проблемой, и сможет подсказать темы и вопросы, которыми следует заняться.
Таким образом, наша цель состоит не в том, чтобы дать систематическое представление об экзистенциальной психологии или ее характеристику - это пока не может быть сделано. Настолько, насколько это возможно, это осуществлено в первых трех главах сборника "Экзистенция" (17)1,2. Эти статьи скорее пытаются показать, как и почему некоторые из тех, кто интересуется экзистенциальной психологией, "встали на этот путь". Некоторые из этих статей импрессионистские, такими они и были задуманы. Глава, написанная Маслоу, освежающе пряма: "Экзистенциальная психология - что в ней есть для нас?" Статья Фейфела иллюстрирует, как этот подход дает нам возможность психологического исследования такой значительной области, как отношение к смерти; отсутствие исследований этой проблемы в психологии давно бросается в глаза. Во второй главе я пытаюсь представить структурную основу психотерапии в русле экзистенциальной психологии. В статье Роджерса обсуждается в основном отношение экзистенциальной психологии к эмпирическим исследованиям, комментарии Олпорта относятся к некоторым общим выводам наших исследований. Мы надеемся, что библиография, составленная Лайонсом, будет полезной студентам, которые захотят прочесть что-нибудь еще о многочисленных проблемах в этой области. Ролло Мэй
Ролло Мэй
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В этом вступительном эссе я бы хотел рассказать о том, как появилась экзистенциальная психология, особенно на американской сцене. Затем я хотел бы обсудить некоторые "вечные" вопросы, которые в психологии задавали многие из нас, вопросы, взывающие, как нам кажется, именно к экзистенциальному подходу, и обозначить некоторые новые акценты, которые этот подход придает центральным проблемам психологии и психотерапии. Наконец, я хочу указать на некоторые трудности и нерешенные проблемы, перед лицом которых стоит экзистенциальная психология сегодня.
Отметим для начала любопытный парадокс: несмотря на враждебность и явное недоверие по отношению к экзистенциальной психологии в этой стране, в то же время имеет место глубокое сходство между данным подходом и американским характером и мышлением как в психологии, так и в других областях. Экзистенциальный подход очень близок, например, к мышлению Уильяма Джеймса. Возьмите, например, его акценты на непосредственность опыта и единство мышления и действия, акценты, которые были для Джеймса такими же важными, как и для Кьеркегора. "Для индивида истинно лишь то, что он лично воплотил в действии" - эти слова, провозглашенные Кьеркегором, хорошо знакомы многим из нас, воспитанным в духе американского прагматизма. Другим аспектом работ Уильяма Джеймса, выражающим тот же подход к реальности, что и экзистенциальные психологи, является важность решимости и включенности - его убежденность в том, что невозможно узнать истину, восседая в кресле, а желание и решимость являются предпосылками к открытию истины. Далее, его гуманистическая направленность и полнота его бытия как человека позволили ему включить в свою систему размышлений искусство и религию, не жертвуя научной целостностью, - это представляет собой другую параллель с экзистенциальной психологией.
Но эта удивительная параллель при ближайшем рассмотрении перестает казаться столь неожиданной, поскольку, когда Уильям Джеймс вернулся в Европу во второй половине XIX века, он, как Кьеркегор, который писал тремя десятилетиями ранее, подключился к наступлению на гегелевский панреализм, который отождествлял истину с абстрактными концепциями. Оба, и Джеймс, и Кьеркегор, посвятили себя переоткрытию человека как существа полного жизни, решимости и непосредственного опыта бытия. Пауль Тиллих писал:
"Как американские философы Уильям Джеймс и Джон Дьюи, так и философы-экзистенциалисты отказались от идеи о "рациональном" мышлении, отождествляющем Реальность с объектом мысли, с отношениями или "сущностями", в пользу такой Реальности, какой человек ее воспринимает непосредственно в своей действительной жизни. Следовательно, они заняли место рядом с теми, кто рассматривает непосредственный опыт человека как более полное открытие сущности и отдельных черт Реальности, чем познавательный опыт человека" (68).
Это объясняет, почему те, кто интересуется терапией, в большей степени готовы иметь дело с экзистенциальным подходом, чем те наши коллеги, которые заняты лабораторными исследованиями или созданием теорий. Нам по необходимости приходится иметь дело непосредственно с бытием человека, который страдает, борется, переживает различные конфликты. Этот "непосредственный опыт" становится нашим естественным окружением, и дает нам как повод, так и данные для нашего исследования. Нам приходится быть подлинно реалистичными и "практичными" в том отношении, что мы имеем дело с пациентами, чьи тревоги и страдания не будут излечены теориями, какими бы блестящими они ни были, или какими бы то ни было всеобъемлющими абстрактными законами. Но посредством взаимодействия в процессе психотерапии мы получаем такую информацию и достигаем такого понимания человеческого бытия, которого невозможно было бы достичь каким-либо другим путем; никому не откроются глубинные уровни его существа, скрывающие его страхи и надежды, иначе как через болезненный процесс исследования его конфликтов, благодаря которому он имеет некоторую надежду на преодоление барьеров и облегчение страданий.
Тиллих назвал Джеймса и Дьюи философами, но они, конечно же и психологи, - возможно, наши величайшие и наиболее влиятельные и во многом самые типичные американские мыслители. Взаимовлияние этих двух дисциплин указывает на другой аспект экзистенциального подхода: он имеет дело с психологическими категориями - "опыт", "тревога" и так далее, - но он интересуется пониманием этих аспектов человеческой жизни на более глубоком уровне, который Тиллих назвал онтологической реальностью. Было бы ошибкой думать об экзистенциальной психологии как о воскресении старой "философской психологии" девятнадцатого века. Экзистенциальный подход не представляет собой движения назад к кабинетным спекуляциям, но является попыткой понять человеческое поведение и опыт с помощью основополагающих структур, - структур, лежащих в основе нашей науки и нашего представления о человеке. Это попытка понять природу тех людей, которые получают опыт, и тех, с которыми это только случается.
Эдриан ван Каам в обзоре работ европейского психолога Линшотена описывал, как поиски Уильямом Джеймсом нового образа человека как более широкой основы для психологии привели его прямо к самому центру развития феноменологии. (О феноменологии как первой стадии развития экзистенциальной психологии мы расскажем далее.) Резюме ван Каама настолько близко к нашей теме, что мы процитируем его дословно:
"Один из ведущих европейских экзистенциальных феноменологов Линшотен написал книгу "По направлению к феноменологии" ("Toward a Phenomenology") с подзаголовком "Психология Уильяма Джеймса". На первой странице была напечатана фраза из книги Уильяма Джеймса "Беседы с учителями": "Это неправда, что наш западный здравый смысл никогда не поверит в существование феноменологического мира". Во вступлении к этой книге Линшотен цитировал дневник Гуссерля, в котором отец европейской феноменологии отмечал влияние Джеймса, этого великого американца, на свои собственные взгляды".
Эта книга в хорошо документированной форме демонстрирует, что невыраженная идея Джеймса была реализована в прорыве нового экзистенциального культурного сознания. Джеймс пробирался на ощупь к новой, смутно угадываемой фазе в истории западного мира. Сложившийся как мыслитель в прежний культурный период, он благоволил психологии такой, какой она практиковалась, но он непрерывно выражал неудовольствие исключительной односторонностью "существования"2 в мире. Линшотен приходит к выводу в своей заключительной главе, что Джеймс был на пути к феноменологической психологии раньше Бьютендика, Мерло-Понти и Страуса, и уже был впереди них в своей концепции интеграции объективизирующей психологии со структурой описательной психологии.
Гений Джеймса предвидел антропологическую фазу (проблема определения человека) нового культурного периода до того, как его современники осознали первые две фазы. Джеймс утверждал, что механистическая интерпретация мира может быть соединена с телеологической интерпретацией. Это возможно потому, что они являются различными образами существования в одном и том же "переживаемом мире". Каждый должен осознать, что "более существенные особенности реальности обнаруживаются только в воспринимаемом опыте", что различные способы проявления в мире должны обязательно привести к видению этого феномена в различных комбинациях, должны привести к различным вопросам, на которые могут быть получены различные ответы.
Недостатки систематизации в работе Джеймса основаны на представлении о том, что единство человека и мира не зависит ни от какого "рационального метода", но зависит от единства дорационального мира, мира переживаний, первоисточника разных ориентации вопросов, которые служат направлениям для различных наук и различных психологических подходов. Этот основной всеобщий источник обладает двумя аспектами: один является источником переживаний, а другой - переживаниями как таковыми. Таким образом, можно выбрать один из двух подходов: одни могут описывать и анализировать непосредственные переживания и тело как основной способ проявления в мире, как это и было сделано такими исследователями, как Мерло-Понти, Страус и Бьютендик; другие могут описывать и анализировать непосредственный опыт и тело во временно-пространственной связанности с переживаемой "реальностью", как это и было сделано такими исследователями, как Скиннер, Халл, Спенс. Первый путь ведет к тому, что называется описательной психологией, другой - к объяснительной психологии. Как только одна из них сочтет свою точку зрения абсолютной, они не смогут больше общаться одна с другой. Джеймс старался сохранить их взаимодополняющими. Это возможно только на основе теории человека как цельного источника непосредственных переживаний, теории его особенного способа существования, феноменологии переживаемого мира, которая подразумевалась Джеймсом3.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Под редакцией Ролло Мэя
Перевод М.Занадворова и Ю.Овчинниковой.
М.: Апрель Пресс & ЭКСМО-Пресс, 2001
Терминологическая правка В.Данченко
К.: PSYLIB, 2005
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Existential Psychology. Ed. by Rollo May
Предисловие
1
Ролло Мэй
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
2
Абрахам Маслоу
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – ЧТО В НЕЙ ЕСТЬ ДЛЯ НАС?
3
Герман Фейфел
СМЕРТЬ – РЕЛЕВАНТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ В ПСИХОЛОГИИ
4
Ролло Мэй
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ
5
Карл Роджерс
ДВЕ РАСХОДЯЩИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ
6
Гордон Оллпорт
КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЫДУЩИМ ГЛАВАМ
ЭКЗИСТЕНЦИЯ:
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ПСИХИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ
Existence: A New Dimension In Psychiatry And Psychology
Ed. by Rollo May, Ernst Engel, Henry F.Ellenberger
New York: Basic Books, 1958
1
Ролло Мэй
ИСТОКИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
2
Ролло Мэй
ВКЛАД ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
3
Генри Элленбергер
КЛИНИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ФЕНОМЕНОЛОГИЮ
И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
7
Людвиг Бинсвангер
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ШКОЛА МЫСЛИ
Предисловие
Хотя экзистенциальное направление и является самым значительным из появившихся в европейской психологии и психиатрии на протяжении двух последних десятилетий в США, оно стало известно только несколько лет назад. С тех пор некоторые из нас обеспокоены тем, что оно может стать слишком популярным в некоторых сферах, особенно в национальных журналах. Но мы можем утешиться словами Ницше: "У первых приверженцев какого-либо движения не бывает аргументов против него".
Мы также можем успокоить себя замечанием о том, что в настоящее время есть две причины, побудившие интерес к экзистенциальной психологии и психиатрии в этой стране. Первая – стремление примкнуть к движению, имеющему шансы на успех, стремление всегда опасное и практически бесполезное и для познания истины, и для попыток понять человека и его отношения. Другое стремление – более спокойное, глубокое, выражается в мнении многих наших коллег, которые считают, что доминирующее сегодня в психологии и психиатрии представление о человеке неадекватно и не дает нам той основы, в которой мы нуждаемся для развития прикладной психотерапии и различных исследований.
Все, что есть в этой книге, исключая библиографию и некоторые отрывки, добавленные к первой главе, было представлено на симпозиуме по экзистенциальной психологии Американской психологической ассоциации в Цинциннати в сентябре 1959 года. Мы приняли предложение "Рэндом Хауз" издать эти статьи не только из-за большого интереса, проявленного к ним на симпозиуме, но и из-за нашего убеждения в том, что дальнейшие исследования в этой области являются абсолютно необходимыми. Мы надеемся, что эта книга сможет послужить стимулом для студентов, интересующихся данной проблемой, и сможет подсказать темы и вопросы, которыми следует заняться.
Таким образом, наша цель состоит не в том, чтобы дать систематическое представление об экзистенциальной психологии или ее характеристику – это пока не может быть сделано. Настолько, насколько это возможно, это осуществлено в первых трех главах сборника "Экзистенция" (17) 1,2 . Эти статьи скорее пытаются показать, как и почему некоторые из тех, кто интересуется экзистенциальной психологией, "встали на этот путь". Некоторые из этих статей импрессионистские, такими они и были задуманы. Глава, написанная Маслоу, освежающе пряма: "Экзистенциальная психология – что в ней есть для нас?" Статья Фейфела иллюстрирует, как этот подход дает нам возможность психологического исследования такой значительной области, как отношение к смерти; отсутствие исследований этой проблемы в психологии давно бросается в глаза. Во второй главе я пытаюсь представить структурную основу психотерапии в русле экзистенциальной психологии. В статье Роджерса обсуждается в основном отношение экзистенциальной психологии к эмпирическим исследованиям, комментарии Олпорта относятся к некоторым общим выводам наших исследований. Мы надеемся, что библиография, составленная Лайонсом, будет полезной студентам, которые захотят прочесть что-нибудь еще о многочисленных проблемах в этой области.
Ролло Мэй
Ролло Мэй ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В этом вступительном эссе я бы хотел рассказать о том, как появилась экзистенциальная психология, особенно на американской сцене. Затем я хотел бы обсудить некоторые "вечные" вопросы, которые в психологии задавали многие из нас, вопросы, взывающие, как нам кажется, именно к экзистенциальному подходу, и обозначить некоторые новые акценты, которые этот подход придает центральным проблемам психологии и психотерапии. Наконец, я хочу указать на некоторые трудности и нерешенные проблемы, перед лицом которых стоит экзистенциальная психология сегодня.
Отметим для начала любопытный парадокс: несмотря на враждебность и явное недоверие по отношению к экзистенциальной психологии в этой стране, в то же время имеет место глубокое сходство между данным подходом и американским характером и мышлением как в психологии, так и в других областях. Экзистенциальный подход очень близок, например, к мышлению Уильяма Джеймса. Возьмите, например, его акценты на непосредственность опыта и единство мышления и действия, акценты, которые были для Джеймса такими же важными, как и для Кьеркегора. "Для индивида истинно лишь то, что он лично воплотил в действии" – эти слова, провозглашенные Кьеркегором, хорошо знакомы многим из нас, воспитанным в духе американского прагматизма. Другим аспектом работ Уильяма Джеймса, выражающим тот же подход к реальности, что и экзистенциальные психологи, является важность решимости и включенности – его убежденность в том, что невозможно узнать истину, восседая в кресле, а желание и решимость являются предпосылками к открытию истины. Далее, его гуманистическая направленность и полнота его бытия как человека позволили ему включить в свою систему размышлений искусство и религию, не жертвуя научной целостностью, – это представляет собой другую параллель с экзистенциальной психологией.
Но эта удивительная параллель при ближайшем рассмотрении перестает казаться столь неожиданной, поскольку, когда Уильям Джеймс вернулся в Европу во второй половине XIX века, он, как Кьеркегор, который писал тремя десятилетиями ранее, подключился к наступлению на гегелевский панреализм, который отождествлял истину с абстрактными концепциями. Оба, и Джеймс, и Кьеркегор, посвятили себя переоткрытию человека как существа полного жизни, решимости и непосредственного опыта бытия. Пауль Тиллих писал:
"Как американские философы Уильям Джеймс и Джон Дьюи, так и философы-экзистенциалисты отказались от идеи о "рациональном" мышлении, отождествляющем Реальность с объектом мысли, с отношениями или "сущностями", в пользу такой Реальности, какой человек ее воспринимает непосредственно в своей действительной жизни. Следовательно, они заняли место рядом с теми, кто рассматривает непосредственный опыт человека как более полное открытие сущности и отдельных черт Реальности, чем познавательный опыт человека" (68).
Это объясняет, почему те, кто интересуется терапией, в большей степени готовы иметь дело с экзистенциальным подходом, чем те наши коллеги, которые заняты лабораторными исследованиями или созданием теорий. Нам по необходимости приходится иметь дело непосредственно с бытием человека, который страдает, борется, переживает различные конфликты. Этот "непосредственный опыт" становится нашим естественным окружением, и дает нам как повод, так и данные для нашего исследования. Нам приходится быть подлинно реалистичными и "практичными" в том отношении, что мы имеем дело с пациентами, чьи тревоги и страдания не будут излечены теориями, какими бы блестящими они ни были, или какими бы то ни было всеобъемлющими абстрактными законами. Но посредством взаимодействия в процессе психотерапии мы получаем такую информацию и достигаем такого понимания человеческого бытия, которого невозможно было бы достичь каким-либо другим путем; никому не откроются глубинные уровни его существа, скрывающие его страхи и надежды, иначе как через болезненный процесс исследования его конфликтов, благодаря которому он имеет некоторую надежду на преодоление барьеров и облегчение страданий.
Тиллих назвал Джеймса и Дьюи философами, но они, конечно же и психологи, – возможно, наши величайшие и наиболее влиятельные и во многом самые типичные американские мыслители. Взаимовлияние этих двух дисциплин указывает на другой аспект экзистенциального подхода: он имеет дело с психологическими категориями – "опыт", "тревога" и так далее, – но он интересуется пониманием этих аспектов человеческой жизни на более глубоком уровне, который Тиллих назвал онтологической реальностью. Было бы ошибкой думать об экзистенциальной психологии как о воскресении старой "философской психологии" девятнадцатого века. Экзистенциальный подход не представляет собой движения назад к кабинетным спекуляциям, но является попыткой понять человеческое поведение и опыт с помощью основополагающих структур, – структур, лежащих в основе нашей науки и нашего представления о человеке. Это попытка понять природу тех людей, которые получают опыт, и тех, с которыми это только случается.
Эдриан ван Каам в обзоре работ европейского психолога Линшотена описывал, как поиски Уильямом Джеймсом нового образа человека как более широкой основы для психологии привели его прямо к самому центру развития феноменологии. (О феноменологии как первой стадии развития экзистенциальной психологии мы расскажем далее.) Резюме ван Каама настолько близко к нашей теме, что мы процитируем его дословно: 1
"Один из ведущих европейских экзистенциальных феноменологов Линшотен написал книгу "По направлению к феноменологии" ("Toward a Phenomenology") с подзаголовком "Психология Уильяма Джеймса". На первой странице была напечатана фраза из книги Уильяма Джеймса "Беседы с учителями": "Это неправда, что наш западный здравый смысл никогда не поверит в существование феноменологического мира". Во вступлении к этой книге Линшотен цитировал дневник Гуссерля, в котором отец европейской феноменологии отмечал влияние Джеймса, этого великого американца, на свои собственные взгляды".
Эта книга в хорошо документированной форме демонстрирует, что невыраженная идея Джеймса была реализована в прорыве нового экзистенциального культурного сознания. Джеймс пробирался на ощупь к новой, смутно угадываемой фазе в истории западного мира. Сложившийся как мыслитель в прежний культурный период, он благоволил психологии такой, какой она практиковалась, но он непрерывно выражал неудовольствие исключительной односторонностью "существования" 2 в мире. Линшотен приходит к выводу в своей заключительной главе, что Джеймс был на пути к феноменологической психологии раньше Бьютендика, Мерло-Понти и Страуса, и уже был впереди них в своей концепции интеграции объективизирующей психологии со структурой описательной психологии.
Гений Джеймса предвидел антропологическую фазу (проблема определения человека) нового культурного периода до того, как его современники осознали первые две фазы. Джеймс утверждал, что механистическая интерпретация мира может быть соединена с телеологической интерпретацией. Это возможно потому, что они являются различными образами существования в одном и том же "переживаемом мире". Каждый должен осознать, что "более существенные особенности реальности обнаруживаются только в воспринимаемом опыте", что различные способы проявления в мире должны обязательно привести к видению этого феномена в различных комбинациях, должны привести к различным вопросам, на которые могут быть получены различные ответы.
Недостатки систематизации в работе Джеймса основаны на представлении о том, что единство человека и мира не зависит ни от какого "рационального метода", но зависит от единства дорационального мира, мира переживаний, первоисточника разных ориентации вопросов, которые служат направлениям для различных наук и различных психологических подходов. Этот основной всеобщий источник обладает двумя аспектами: один является источником переживаний, а другой – переживаниями как таковыми. Таким образом, можно выбрать один из двух подходов: одни могут описывать и анализировать непосредственные переживания и тело как основной способ проявления в мире, как это и было сделано такими исследователями, как Мерло-Понти, Страус и Бьютендик; другие могут описывать и анализировать непосредственный опыт и тело во временно-пространственной связанности с переживаемой "реальностью", как это и было сделано такими исследователями, как Скиннер, Халл, Спенс. Первый путь ведет к тому, что называется описательной психологией, другой – к объяснительной психологии. Как только одна из них сочтет свою точку зрения абсолютной, они не смогут больше общаться одна с другой. Джеймс старался сохранить их взаимодополняющими. Это возможно только на основе теории человека как цельного источника непосредственных переживаний, теории его особенного способа существования, феноменологии переживаемого мира, которая подразумевалась Джеймсом 3 .
Здесь мы остановимся, чтобы определить термины. Экзистенциализм означает сосредоточение на существовании личности; это акцент на человеческом бытии в том виде, в котором оно проявляется, становится. Слово "существование" ("existence") пришло от корня ex-sistere, означавшего буквально "выделяться, появляться". Традиционно в западной культуре "существование" противопоставляют "сущности", последняя подчеркивает принципы, истину, логические законы и т.д., которые предполагаются расположенными над любым данным существованием. Пытаясь разделить реальность на отдельные части и сформулировать абстрактные законы каждой из этих частей, западная наука все более и более становилась "сущностной" по своему характеру; математика – это основная, чистая форма этого сущностного подхода. В психологии попытки рассмотреть человеческое бытие в терминах сил, влечений, условных рефлексов и т.п. иллюстрируют сущностный подход.
Акцентирование сущности было доминирующим в западной мысли и науке – при небольшом числе ярких исключений, таких, как Сократ, Августин и Паскаль, – приблизительно до середины прошлого века. "Пик" был достигнут: наиболее систематическое и полное выражение "сущностный подход" получил в гегелевском панрационализме, который был попыткой объять всю реальность системой концепций, отождествляющих реальность с абстрактной мыслью. Как раз против Гегеля так энергично выступали Кьеркегор, а позднее – Ницше (читателю, который хочет проследить историческое развитие этой проблемы более детально, рекомендуем первую главу сборника "Экзистенция").
Но за несколько десятилетий, прошедших после второй мировой войны, статус экзистенциального подхода поднялся от "приемного ребенка" западной культуры до доминантной позиции в центре западного искусства, литературы, теологии и философии. Это было сделано параллельно с новым направлением развития в науке, особенно в физике Бора и Гейзенберга.
Крайняя степень выраженности экзистенциальной позиции обнаруживается в утверждении Ж.-П.Сартра о том, что только в той мере, в которой мы подтверждаем свое существование, мы обладаем какой-либо сущностью, т.е. "существование предшествует сущности". Это и есть основная причина, по которой Сартр настаивал на выводе: "Мы сами – наш выбор".
Моя личная позиция, как, впрочем, и позиция большинства психологов, признающих ценность экзистенциальной революции, не является такой крайней, как позиция Сартра. "Сущности" не должны быть исключены – они предполагаются в логических, математических формах, других взглядах на истину, независящих от индивидуальных решений и причуд. Но нельзя сказать, что вы сможете адекватно описать или понять бытие другого человека или любого другого живого организма на "сущностной" основе. Для бытия другого человека нет таких понятий, как истина и реальность без его участия в них, сознавания их и наличия какого-либо отношения к ним. В любой момент психотерапевтической работы можно продемонстрировать, что только истина, которая ожила, стала больше чем просто абстрактной идеей, которая "чувствуется на кончиках пальцев", только такая истина, которая подлинно переживается на всех уровнях бытия, включая то, что мы называем подсознательным и бессознательным и не забывая об элементах сознательного принятия решения и ответственности, – только такая истина имеет возможность изменить человеческое бытие.
Поэтому экзистенциальный подход в психологии не отрицает истинности подходов, основанных на обусловливании, формулировке влечений, изучении дискретных механизмов и так далее. Он только придерживается того взгляда, что на этой основе вы никогда не сможете объяснить и понять бытия живого человека. Когда образ человека, предположения о нем основываются исключительно на таких методах, это ни к чему хорошему не приводит. Вот этот "закон" в действии: чем более точно и всесторонне вы можете описать данный механизм, тем больше вы упускаете из виду существующую личность. Чем более четко и точно вы определите силы и влечения, тем больше вы будете говорить об абстракциях, а не о существовании, бытии живущего человека. В жизни человек (не загипнотизированный или ради эксперимента не введенный посредством наркотиков либо каким-либо иным способом в искусственное состояние в лабораторных условиях, при которых элементы принятия решения или ответственности за собственное существование временно аннулируются) всегда выходит за пределы данного механизма и всегда использует влечения и силы уникальным способом. Разница только в том, "рассматривать ли личность в терминах механизма" или "механизм в терминах личности". Экзистенциальный подход твердо выбирает последнее. И придерживается того мнения, что первый может быть включен в последний.
Правда, термин "экзистенциальный" в наши дни сомнителен и запутан и ассоциируется с движением битников как одна крайность и с изотерическими, непереводимыми немецкими философскими концепциями как другая. Правда также, что это движение собирает вокруг себя фанатиков, от которых не свободны ни экзистенциальная психология, ни психиатрия. Я часто спрашиваю себя, не стал ли этот термин настолько неопределенным, что его уже невозможно использовать. Но термин "экзистенция" действительно имеет важное историческое значение, обрисованное ранее, и, возможно, поэтому может и должен быть сохранен от искажающих интерпретаций.
В психологии и психиатрии этот термин означает установку, особый подход к человеческому бытию, а не специальную школу или группу. Сомневаюсь, имеет ли смысл говорить об "экзистенциальном психологе или психотерапевте" в противовес другим школам; это не система терапии, а установка по отношению к терапии; не набор новых техник, а интерес к пониманию структуры человеческого бытия и его переживаний, который должен предшествовать всем техникам. Поэтому имеет смысл сказать, если я буду правильно понят, что любой психотерапевт является экзистенциальным в той мере, в какой он хороший терапевт, т.е. насколько он оказывается способным воспринять пациента в его реальности и характеризуется способами понимания и присутствия, которые будут описаны ниже.
Я бы хотел, после всех комментариев по поводу определений, быть экзистенциалистом в этом эссе и говорить, исходя непосредственно из своего опыта, как личного, так и опыта практикующего психоаналитика и психотерапевта. Около 15 лет назад, когда я работал над своей книгой "Смысл тревоги" ("The Meaning of Anxiety"), я провел 1,5 года в туберкулезном санатории. У меня было очень много времени, чтобы обдумать значение тревоги – в первую очередь, ее проявления в себе и своих пациентах. В течение этого времени я изучил только две книги, написанные о тревоге к нашему времени: "Проблема тревоги" Фрейда и "Концепция страха" Кьеркегора. Я оценил формулировки Фрейда, а именно, его первую теорию о том, что тревога – это появление подавленного либидо, и вторую теорию о том, что тревога – это реакция эго на угрозу потери любимого объекта. Кьеркегор, напротив, описывал тревогу как борьбу бытия с небытием – которую я сам мог непосредственно пережить в санатории, борясь со смертью или с перспективой остаться инвалидом на всю жизнь. Он хотел обратить внимание на то, что настоящий ужас, проявляющийся в тревоге, – это не смерть как таковая, а тот факт, что каждый из нас находится одновременно по обе стороны баррикады, что "тревога – это болезнь, которой человек страшится", – писал он; таким образом, как "чужеродная сила, она держит человека в своих объятиях, и он никак не может вырваться".
Что меня сильно поразило, так это то, что Кьеркегор писал именно о том, через что прошел я и мои пациенты. А Фрейд нет; он писал на другом уровне, давал формулировки психическим механизмам, благодаря которым появляется тревога. Кьеркегор описывал именно переживания человека во время кризиса. В частности, это был кризис противостояния жизни и смерти, который полностью реален для нас, пациентов, но он писал о таком кризисе, который, я думаю, по сути своей не отличается от различных кризисов людей, пришедших на терапию, или даже от кризисов, которые все мы переживаем в далеко не минутной форме десятки раз в день, даже когда мы отталкиваем прочь мысль о грядущей перспективе смерти. Фрейд писал на техническом уровне, здесь его гений превзошел всех; возможно, больше, чем все люди его времени, он знал о тревоге. Кьеркегор – гений другого порядка, – писал на экзистенциальном, онтологическом уровне; он знал тревогу.
Это не ценностная дихотомия; очевидно, что оба подхода необходимы. Настоящая проблема, до некоторой степени, появляется благодаря культурно-исторической ситуации. Мы на Западе являемся наследниками четырех веков технических достижений в области власти над природой, а теперь и над нами самими; в этом наше величие и в то же время – самая большая опасность. Опасность не в том, что мы не учитываем какие-то технические моменты (что подтверждается, если необходимы, конечно, какие-то подтверждения, огромной популярностью Фрейда в этой стране). Скорее мы подавляем противоположное. Если позволите использовать термин, который я буду обсуждать и определять более полно позднее, то я бы сказал, что мы подавляем смысл бытия, онтологический смысл. Одним из следствий подавления смысла бытия является то, что у современного человека образ самого себя, его опыт и концепция самого себя как ответственного индивида также отделены друг от друга.
Я не буду извиняться за то, что, как уже было ясно, воспринимаю всерьез опасность дегуманизации в тенденции современной науки переделать человека до образа машины, до образа техник, при помощи которых мы его изучаем. Эта тенденция не является виной каких-либо "опасных людей" или "дефектных школ"; это, скорее, кризис воспитания в нашем особенном затруднительном историческом положении. Карл Ясперс, психиатр и экзистенциальный философ, считает, что мы действительно находимся в процессе потери самосознания и вполне можем оказаться на последнем этапе человеческой истории. Уильям Уайт в своей книге "Организация человека" предостерегает, что враги современного человека могут обернуться "хорошо выглядящей группой терапевтов, которые... сделают все, чтобы помочь вам". Он указывает здесь на тенденцию использовать социальные науки в поддержку социальной этики нашего исторического периода; и, таким образом, процесс помощи людям может действительно приспособить и направить в сторону деструкции индивидуальности. Мы не можем отбросить предостережения таких людей, как неинтеллектуальные или антинаучные; попытка поступить так может сделать нас обскурантистами. Это реальная возможность того, что мы можем помочь привести индивида в порядок и сделать его счастливым ценой потери его бытия.
Кто-нибудь может согласиться с моей точкой зрения, изложенной выше, хотя будет придерживаться мнения, что экзистенциальный подход с такими терминами, как "бытие" или "небытие", не может принести много пользы. Некоторые читатели сразу же решат, что их подозрения были оправданы, что так называемый экзистенциальный подход безнадежно неясен и ужасно запутан. Карл Роджерс отметит в последующей главе, что множество американских психологов должны найти эти термины отвратительными, потому что они звучат так обще, так философски, так непроверяемо. Роджерс, однако, продолжает указывать на то, что он не испытывал трудностей в переложении экзистенциальных принципов в терапии в эмпирически проверяемые гипотезы.
Но я должен продолжить и подтвердить, что без понятий "бытие" и "небытие" мы не сможем понять даже самые часто используемые психологические механизмы. Возьмем, например, такие, как подавление, сопротивление и трансформация. Обычные обсуждения этих терминов зависают в воздухе, они, как мне кажется, неубедительны и психологически нереальны, именно потому, что мы испытываем недостаток в низлежащих структурах, на которых они могут базироваться. Термин "подавление", например, очевидно относится к феномену, наблюдаемому нами постоянно, динамику которого Фрейд ясно и во многих проявлениях описал. Механизм в целом объясняется фразой, что ребенок подавляет определенные импульсы, такие, как половое влечение и враждебность, потому что культура в лице родителей их не одобряет, и ребенок должен обеспечить себе безопасность в общении с ними. Но культура, притворно не одобряющая эти импульсы, состоит из тех же людей, таким же образом их подавляющих. Поэтому не слишком ли большим упрощением будет говорить о культуре как полностью противопоставленной индивиду и стоящей над нами с палкой? Более того, откуда мы взяли идею о том, что дети или взрослые настолько беспокоятся о безопасности и удовлетворении либидо? И не переносится ли это от работы с невротичными, тревожными детьми и невротичными взрослыми?
Конечно, невротичные, тревожные дети вынуждены беспокоиться, например, о безопасности; и, конечно, взрослый невротик, и мы, изучающие его, привносим наши формулировки в голову ничего неподозревающего ребенка. Но не точно ли так же нормальный ребенок заинтересован в выхождении в мир, исследовании, подчиняясь любопытству и духу приключений, как и продолжает "учиться дрожать и трястись", как сказано в детском стишке? И если вы блокируете эти нужды ребенка, не вызываете ли вы у него такой же травматической реакции, как если вы лишаете его безопасности? Я, во-первых, думаю, мы сильно преувеличиваем связь человеческого бытия с безопасностью и инстинктом выживания, потому что она хорошо подходит для нашего причинно-следственного мышления. Мне кажется, Ницше и Кьеркегор были более правы, описывая человека как организм, который создает некие ценности – престиж, власть, нежность, любовь, – более важные, чем удовольствие, и даже более важные, чем собственное выживание 4 .
Из приведенных выше аргументов следует, что мы в состоянии понять такие механизмы, как, например, подавление, только на более глубинном уровне возможностей значения человеческого бытия. В этом аспекте "бытие" должно быть определено как индивидуально-неповторимый рисунок возможностей. Эти возможности будут частично совпадать с возможностями других индивидуумов, но в любом случае они будут частью неповторимой структурры конкретной личности.
Поэтому мы должны задать следующие вопросы, если мы хотим понять подавление у данной личности: что представляет собой отношение личности к своим собственным возможностям; что происходит такого, что она выбирает или вынуждена выбирать загораживание сознания от чего-то, что она знает, или на другом уровне знает, что она знает? В моей психотерапевтической практике появляется все больше и больше доказательств того, что тревога в наши дни появляется не столько из боязни нехватки либидозного удовлетворения или безопасности, сколько из боязни пациента своих собственных сил и конфликтов, возникающих из этого страха. Это может быть отличительной особенностью "невротической личности нашего времени" – невротический стереотип современного "управляемого извне" общественного человека.
"Бессознательное", таким образом, не должно восприниматься как резервуар для импульсов, мыслей и желаний, неприемлемых в данной культуре. Я определяю его скорее как те возможности для узнавания или переживания, которые личность не может или не хочет воплощать в действительность. На этом уровне мы обнаружим, что простой механизм подавления, с которого мы так радостно начали, бесконечно более прост, чем кажется; что он включает в себя комплекс борьбы индивидуального бытия против возможности небытия; что он не может быть адекватно включен в понятия "эго" и "не-эго" или даже "самость" и "не-самость"; и что неизбежно возникает вопрос свободы человеческого бытия в отношении его собственных возможностей. Эта зона свободы должна учитываться, если кто-то имеет дело с реально существующей личностью. В этой зоне всегда имеет место ответственность за себя, которую даже терапевт не может устранить.
Таким образом, каждый механизм или динамика, каждая сила или побуждение, предполагает нижележащие структуры, которые являются бесконечно более значимыми, чем сами эти механизмы, побуждения или силы. И заметьте, что я не говорю, что это "общая сумма" механизмов и т.д. Это не "общая сумма", хотя она включает в себя все механизмы, побуждения и силы: это та более глубоко лежащая структура, от которой они получают свое значение. Эта структура представляет собой, используя наше определение, данное выше, рисунок возможностей отдельного живого человека, одним из проявлений которого является этот механизм; данный механизм оказывается одним из множества способов воплощения его возможностей в действительность. Конечно, вы можете абстрагировать любой данный механизм, такой, как "подавление" или "регрессия", для изучения и свести его к соотнесению сил и побуждений, которые кажутся действующими; но ваше исследование будет иметь смысл только в том случае, если вы на каждом этапе будете говорить себе: "Я выделяю из поведения то-то и то-то", – и если вы также будете ясно представлять на каждом этапе из чего вы выделяете эти механизмы, а именно, из живущего человека, имеющего данный опыт, человека, с которым все это случается.
С этим настроением я в течение нескольких лет, как практикующий терапевт и как человек, обучающий терапевтов, задумывался над одним и тем же вопросом: насколько часто интерес и стремление понять пациента в терминах механизмов, которыми управляется поведение, блокируют понимание того, что человек действительно переживает. Вот, например, пациентка миссис Хатчинс (вокруг которой будет сосредоточена часть моих заметок в главе 4), которая пришла ко мне в первый раз, жительница пригорода лет 35, старающаяся произвести впечатление уравновешенной и умудренной опытом. Но трудно не заметить в ее глазах какого-то ужаса испуганного животного или потерявшегося ребенка. Я знаю от специалистов по неврологии, обследовавших ее, что ее главной проблемой является истерическая напряженность гортани, вследствие которой она может говорить только с непрекращающейся хрипотой. По ее результатам, полученным с помощью теста Роршаха, я выдвинул гипотезу, что она всю свою жизнь ощущала то, что можно выразить следующей фразой: "Если я скажу, что я действительно чувствую, то буду отвергнута; в таких условиях лучше не говорить ничего". В течение первого часа работы с ней я также получил несколько намеков на то, почему развилась ее проблема, так как она рассказала мне об авторитарном отношении к ней ее матери и бабушки и о том, как она училась твердо избегать разглашения любых своих секретов.
Но если уж я терапевт, я буду в основном задумываться над тем, почему и как возникла эта проблема, я пойму все, кроме самого важного момента – существующей личности. Действительно, у меня будет все, кроме единственного настоящего источника данных, имеющихся у меня, а именно, – это бытие человека, эту сейчас возникающую, становящуюся, "строящую мир" личность, которую отметил бы экзистенциальный психолог, находясь в одной комнате со мной.
Как раз здесь феноменология – первая стадия в экзистенциально-психологическом движении – для многих из нас будет полезным прорывом. Феноменология пытается принимать феномен как данное. Это дисциплинирующая попытка очистить мысли от предположений, которые так часто являются причиной восприятия нами в пациенте только собственных теорий и догм собственных систем, попытка взамен этого испытать феномен в своей реальной целостности. Это установка открытости и готовности слушать – аспекты искусства слушать в психотерапии, которое считается обычно само собой разумеющимся и кажется очень простым, но является чрезвычайно сложным.
Заметьте, что мы написали пережить феномен, а не наблюдать; мы должны быть в состоянии понять настолько глубоко, насколько возможно то, что пациент общается на множестве разных уровней; это включает не только слова, которые он произносит, но и выражения его лица, жесты, расстояние от нас, на котором он находится, различные чувства, которые он будет испытывать, которые искусно обращены к терапевту и будут служить ему в качестве опорных точек, даже если пациент, в конце концов, не сможет их точно вербализовать. Всегда существует много сублимируемых коммуникаций на нижележащих уровнях, которые как пациент, так и терапевт могут осознать в данный момент. Эти идеи указывают на спорную область в терапии, в которой трудней всего чему-нибудь научить и что-либо сделать, но от нее нельзя спрятаться, и поэтому она так важна – это возвышенная, эмпатийная, "телепатическая" коммуникация. В эту область мы не будем углубляться; я хотел бы только сказать, что переживание коммуникаций пациента на множестве разных уровней одновременно является одним из аспектов того, что экзистенциальные психиатры, такие, как Бинсвангер, называют присутствием.
Феноменология нуждается в "установке дисциплинирующей наивности" – писал Роберт Мак-Леод. Комментируя эту фразу, Альберт Вэллек добавил свою: "способность критически испытать на опыте". По моему мнению, человек не может слушать какие-либо слова или даже обращать на что-то внимание без каких-то общих понятий, конструктов в собственной голове, посредством которых он слышит, благодаря которым он ориентирует сам себя в мире в данный момент. Важные для трудного приобретения объективности термины "дисциплинировать" в высказывании Мак-Леода и "критично" в комментарии Вэллека, которых я цитировал, – означают, что, пока у любого человека, для того чтобы слушать, должны быть конструкты, задача терапевта сделать свои собственные конструкты достаточно гибкими, чтобы он мог слушать в терминах пациента и слышать на языке пациента.
Ролло Мэй (May; p. в 1909 г.) - известный американский психолог и психотерапевт, реформатор психоанализа, привнесший в него экзистенциальные идеи, один из самых знаменитых в мире психиатров. Воззрения Мэя формировались под влиянием целого ряда интеллектуальных традиций. Мэй получил образование в 30-е годы в Европе, где изучал психоанализ и индивидуальную психологию Адлера. Вернувшись на родину, Мэй заканчивает теологический факультет. В это время он познакомился с эмигрировавшим из Германии протестантским теологом Паулем Тиллихом (Tillich; 1886 - 1965), с которым у него устанавливаются самые дружеские отношения и под влиянием которого он обращается к произведениям философов-экзистенциалистов 223 . В какой-то мере можно говорить и об обратном влиянии, поскольку Тиллих неоднократно заявлял, что его работа "Мужество быть" написана как ответ на книгу "Смысл тревоги" Мэя. Получив теологическое образование, Мэй стал сочетать психотерапевтическую работу с пастырской деятельностью. Свою первую книгу он посвятил исследованию терапевтического потенциала христианства. Работа Мэя "Искусство психологического консультирования" была первой, изданной по экзистенциальной психотерапии в США.
В 40-е годы Мэй, Вместе с Фроммом и Салливеном, работал в Нью-Йоркском Институте психиатрии, психоанализа и психологии -главном американском центре неофрейдизма. Поэтому, хотя впоследствии он подвел под свою психотерапевтическую концепцию экзистенциально-феноменологическую базу, многие положения Салливе-на и Фромма в несколько измененных формулировках вошли в его экзистенциальную психологию. Преподавательская деятельность Мэя была связана с Гарвардом, Принстоном и другими ведущими университетами Америки. Мэй удостоен Золотой медали Американской психологической ассоциации, отмечающей "изящество, остроумие и стиль" его книг, неоднократно попадавших в списки бестселлеров. Ему принадлежат такие работы, как "Любовь и воля", "Смысл тревоги", "Человек в поисках себя", "Мужество творить", "Свобода и судь-ба", "Открытие быт ия".
" , Мэй является автором интересного "персонального портрета" Тиллиха, содержащего сведения о житни Тиллиха в США, о восприятии его идей американской аудитории и т.д. (May R. Paulus: Reminiscences ofaFreindship- NY.- 1973).
Психотеология - Ролло Мэй
Мэй считается одним из наиболее ревностных сторонников экзистенциализма в Америке. Его вводные главы к книге "Экзистенция" (1958) 224 , а также его книга "Экзистенциальная психология" были для американских психологов основными источником информации об экзистенциализме. В американской литературе часто встречается мнение, что именно после издания книги "Экзистенция" - антологии работ европейских (в основном швейцарских и немецких) представителей феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа, к которой Мэй написал обширное теоретическое введение, начинается быстрое распространение экзистенциальной психологии и психотерапии в США. По оценке Шпигельберга, Мэй является "наиболее влиятельным американским представителем экзистенциальной феноменологии, подготовившим климат для нового подхода к феноменологической психологии" 225 .
Наиболее характерной чертой учения Мэя является стремление совместить реформированный психоанализ Фрейда с идеями Кьер-кегора, прочитанного "онтологически", то есть сквозь "Бытие и время" Хайдеггера, экзистенциальный анализ Бинсвангера, теологию Тиллиха. Публикация в 1958 г. антологии "Экзистенция" является водоразделом двух этапов творчества Мэя. На первом этапе в его произведениях преобладают общие для всех неофрейдистов темы, хотя уже тогда он в значительной мере опирался на идеи философов-экзистенциалистов. На втором этапе он становится виднейшим американским сторонником реформирования психологии и психиатрии на основе экзистенциальной феноменологии и экзистенциального анализа Бинсвангера. Мэй, таким образом, не сразу пришел к экзистенциализму, но уже по его ранним работам видно, что встреча с этим философским течением была закономерной.
На протяжении всего своего творчества Мэй вступает как противник ортодоксального фрейдизма, отмечает неприменимость его центральных понятий в психотерапевтической практике, столкнувшейся в середине века с рядом новых явлений. Фрейд считал причиной неврозов подавление "работающих" по "принципу удовольствия" инстинктивных влечений, вступающих в конфликт с социальными нормами, представителем которых в психике индивида является "Сверх-Я".
""" Existence: A New Dimension in Psychiatry and Psychology/ Ed. by R. May, E. Angel and
H. Ellenberger.-N.Y.: Basic books.- 1958.
225 Spiegelberg H. Phenomenology in Psychology and Psychiatry.- Evanston.- 1972- P. 158.
Ю.В. Тихонравов
Смягчение суровых моральных норм викторианской эпохи, полагал он, избавляло бы людей от неврозов.
Но еще до "сексуальной революции" Мэй обратил внимание на то, что смягчение моральных норм, снятие запретов не приводят к уменьшению числа психических расстройств. Напротив, большая свобода самовыражения в сфере сексуальных отношений вместо предсказанного Фрейдом роста витальности вызывала лишь количества этих расстройств. При этом, отмечает Мэй, пациенты обращаются к психоаналитику по поводу затруднений, имеющих совсем иной характер, чем те, что наблюдались Фрейдом в начале века. Одиночество, скука, недовольство, потеря смысла существования, духовная атрофия - таковы характерные симптомы современных психических расстройств. Мэй пришел к выводу, что причиной неврозов являются не плохо вытесненные детские впечатления, не фиксации либидо, словом, не прошлое пациента, а те проблемы, которые он не может решить в настоящий момент, что и ведет к потере спонтанности, устремленности в будущее, творческого существования. Психически нормальный человек, по Мэю, способен находить конструктивные пути для самовыражения. Для него характерен разрыв между тем, что он есть, и тем, чем он хочет быть, разрыв, создающий теоретическое напряжение. Становление, свободный выбор личности уже в первой работе Мэя принимаются в качестве критериев психического здоровья.
Мэй признает, что свобода - это не произвол. Иначе трудно было бы говорить о "конструктивности" выбора пациента, который должен соответствовать тому, что Мэй называет "необходимой структурой", обеспечивающей гармонию человека и общества, индивидуального и универсального. В своей первой книге "Искусство консультирования" Мэй, во-первых, находит эту необходимую структуру в юнговских архетипах коллективного бессознательного, а во-вторых, считает наиболее универсальными принципами нормы поведения индивида, установленные христианской религией. Причину эгоцентризма и эгоизма человека современного общества он видит в грехопадении и отделении человека от бога. Следование христианскому вероучению Мэй считает императивом личностного здоровья. Однако в этом случае не только все атеисты, но и большая часть людей на Земле оказываются психически не вполне здоровыми. Правда, Мэй отделяет "подлинную религию", дающую осмысленность бытию человека (а соот-
Психотеология - Ролло Мэй
ветственно и здоровье), от "догматической религии", отнимающей у него свободу и ответственность за собственные деяния. Но понять, что же представляет собой, по Мэю, эта "подлинная религия" крайне трудно, как и то, каким образом она может освящать высказываемые им идеи о том, что самоутверждение человека, различные проявления спонтанного творчества следует рассматривать в качестве выражения психического здоровья. С одной стороны, им утверждаются вечные и абсолютные "божественные принципы", а с другой - полная свобода творящего самого себя индивида.
В 1940 г. Мэй выпустил работу 226 , в которой религиозные мотивы усиливаются. Христос истолковывается как "терапевт человечества". Однако в последующие годы Мэй отходит от подобных построений, собственно религиозные размышления исчезают из его книг и статей, а ранние работы он запрещает переиздавать. Мэй приходит к мысли о вечном конфликте между этикой и религией в том виде, как она существует исторически и социально: "существует жестокая война между этически чуткими людьми и религиозными институтами" 227 . Героическое самоутверждение человека, "прометеевская" борьба с любыми формами организации и институтами становятся на некоторое время главными пунктами его произведений. Миф о Прометее, по Мэю, выражает вечную борьбу самостоятельной и ответственной личности с авторитетами и традиционными нормами. Жизнь человека с детских лет описывается им как борьба за самоутверждение, как "континуум дифференциации от "массы" по направлению к индивидуальной свободе" 228 . Мэй готов говорить о невротичности чуть ли не любой формы власти, даже в родительском авторитете он видит угрозу психическому здоровью ребенка.
Нельзя сказать, что Мэй совсем игнорирует социальные причины невротических расстройств. Его исследование "Смысл тревоги" представляет интерес не только в том отношении, что в нем впервые была предпринята попытка дать психологическую интерпретацию экзистенциалистского учения о тревоге, но и потому, что его автор обращается к критике современного общества и приходит к выводу о необходимости социальных перемен. Мэй пытался в своей работе показать, что невротические страхи порождаются обществом "борь-
2 - к May R. The Springs of Creative Living: A Study on Human Nature and God.-N.Y.- 1940. 2:7 May R. Man"s Search For Himself.- N.Y.-1953.- P. 164. ~* MayR. Man"s Search for Himself-P. 164.
Ю.В. Тижонравов
бы всех против всех", социальным неравенством, угрозой безработицы и тому подобными причинами. Однако впоследствии Мэй опускает рассмотрение вопросов психотерапии в широком социальном контексте, рассуждения об "адекватных формах общности", преодолении "невротического общества" и индивидуализма. Его учение о тревоге становится подготовкой перехода к экзистенциальному анализу и феноменологической психологии.
Тревога определялась Мэем как осознание угрозы "какой-либо ценности, которую индивид считает сущностной для своего существования как личности" 229 . Угрожать человеку могут физическая смерть или страдание, потеря тех или иных социальных благ, ценностей или символов. Но главное внимание Мэй обращает на угрозу утратить смысл существования, поскольку по поводу угрозы потерять какие-либо конкретные вещи, блага, обстоятельства человек испытывает не тревогу, а страх. То есть он способен четко сформулировать угрозу, бороться с ней или бежать от страшного. Страшное угрожает не ядру личности, тогда как тревога наносит удар по самому основанию ее психологической структуры, на котором строится понимание себя самого и мира. В тревоге человек испытывает страх по поводу собственной экзистенции, страшится "стать ничем".
Страх смерти представляет собой нормальную форму тревоги, но не он, считает Мэй, является ее истоком. Ее вызывает боязнь пустоты, бессмысленности, ничто. Это тревога, с необходимостью присущая человеческой экзистенции, она неотделима от бытия личности. Без тревоги невозможно позитивное развитие личности, она является необходимым элементом в структуре человеческой психики. Не-вротична не сама тревога, а попытки ее избежать. Невротик бежит от "базисной тревоги", но в результате начинает испытывать тревогу там, где нормальный человек (то есть осознающий свою конечность и постоянную угрозу ничто) испытывает лишь страх, осознавая конкретные опасные обстоятельства своего существования и находя силы им противостоять.
Отсюда выводятся основные принципы психотерапии Мэя: от невротических страхов индивид освобождается через осознание "базисной тревоги", поскольку "имеется обратное отношение между осоз-
MayR. Meaning of Anxiety.- N.Y.- I977.-P.239.
Психотеология - Ролло Мэй
нанием тревоги и присутствием симптомов" 230 . Тревога, как страх за самое бытие экзистенции, должна "растворить" все невротические фобии: "осознанная тревога может быть более болезненной, но она может быть использована также для интеграции "Я" 231 . Психотерапия, таким образом, является родом воспитания пациента в духе экзистенциалистской философии: он должен понять неподлинность собственного существования и своих страхов, осознать собственную конечность и выбрать самого себя перед лицом ничто. Многие из пациентов, как отмечал сам Мэй, приходят к аналитику, с медицинской точки зрения, совершенно здоровыми. Их тревожит пустота, бессмысленность собственного существования, а психотерапевт указывает им на необходимость выбора самого себя, призывает к "мужеству творить" и ничего, кроме смерти, не бояться, реализуя собственную свободу.
Психотерапевтическое убеждение, безусловно, является чрезвычайно важным средством лечения. Оно оказывает воздействие не только на представления, но и на эмоции, интеллект, личность больного в целом. Врач может указать на неадекватность оценки больным своей ситуации, окружающих людей, может в какой-то мере изменить сформировавшиеся установки и нормы поведения больного. У Мэя этот момент психотерапии доминирует: психотерапевт убеждает своих пациентов в том, что все находится в их руках, зависит от их свободного выбора. Если речь идет о практически здоровых людях, которых тревожит бесцельность собственного существования, такого рода убеждение без сомнения полезно, однако оно же может при известных условиях принести вред действительно больному человеку, если тот станет пытаться одним лишь усилием освободившейся воли преодолеть болезнь. Неудачность такого рода попыток может привести к усилению невротических симптомов.
Для того, чтобы помочь пациенту найти смысловые ориентиры в жизни, необходимо понять его внутренний мир. Исходить при этом, считает Мэй, надо из того общего основания, которое делает возможным как нормальное, так и психически анормальное существование, то есть нужно раскрыть его бытие-в-мире, структуру его осмыслен-
1 " May R. Meaning of Anxiety.- P.371. Мэй повторяет здесь то, что писало соотношении страха и тревога Хайдегтер: "Страх есть падшая в "мир", неподлинная и сама от себя сокрытая тревога" (Heidegger M.SeinundZeit.-S.I89.). 231 May R. Meaning of Anxiety.-P.371.
Ю.В. Тихонравов
ных переживаний, интенций. Конкретные науки дают нам,по его мнению, знание о тех или иных механизмах мышления и поведения, но не об этом основании. Для того чтобы иметь возможность понять существование каждого конкретного человека, нужна онтология. "Отличительной чертой экзистенциального анализа является, таким образом, то, что он имеет дело с онтологией, с экзистенцией этого конкретного бытия, находящегося перед психотерапевтом" 232 . Структуру такой экзистенции призвана, по Мэю, раскрыть экзистенциальная феноменология. Только после постижения этой интегральной структуры может принести какую-то пользу изучение различных механизмов психики: "Излечение от симптомов, несомненно желательное... не является главной задачей терапии. Самым важным является открытие личностью своего бытия, своего Dasein" 233 . Существо процесса терапии составляет оказание помощи "пациенту в осознании и испытании своей экзистенции" 234 .
Мэй отрицает возможность рационального и объективного познания человеческой экзистенции. Наука, повторяет он вслед за другими экзистенциалистами, говорит на языке картезианского дуализма, разделяет субъект и объект и является выражением современной цивилизации, в которой господствуют взаимоотчуждение и деперсонализация. Однако человек и мир неразрывно друг с другом связаны, это два полюса единого структурного целого, бытия-в-мире. Мир личности невозможно понять через описание всевозможных факторов внешней среды, которая есть лишь один из модусов этого бытия-в-мире. По Мэю, имеется множество окружающих миров - столько же, сколько имеется индивидов. "Мир является структурой смысловых отношений, в котором существует личность и в образе которого она соучаствует" 235 . Мир включает в себя прошлые события, но они существуют для индивида не сами по себе, не "объективно", а в зависимости от его отношения к ним, от того смысла, который они для него имеют. В мир входят и возможности индивида, в том числе и данные обществом, культурой. Человек все время достраивает свой мир.
2J - Existence: A New Dimension in Psychiatry and Psychology.- P.37. -" Existence,-P.27.
114 Existence- P.77.
115 Existence.- P.59.
Психотеология - Ролло Мэй
Вслед за Бинсвангером Мэй говорит о трех основных модусах мира. В первом из них - окружающем мире, среде обитания - человек сталкивается со всем многообразием природных сил и приспосабливается к ним. Во втором мире - универсуме "со-бытия" - человек встречается с другими людьми. Здесь речь идет уже не об адаптации, а о сосуществовании, предполагающем взаимное признание в качестве личностей. Окружающий мир постигается современными биологическими и психологическими теориями; фрейдовское учение Мэй считает важным составным элементом правильного описания этого измерения человеческого бытия. Мир "со-бытия" рассматривается в различных социокультурных теориях, среди которых Мэй выделяет, как наиболее правильную, неофрейдистскую концепцию Салливена.
Однако, считает Мэй, к этим модусам не может быть сведен собственный мир человека. Этот уникальный для каждого мир предполагает самосознание и должен быть основанием для видения всех человеческих проблем, поскольку лишь здесь раскрывается мир внутренних значений. Только обратившись к этому измерению, можно понять, что значат для любого индивида окружающие его предметы, какой смысл именно для него имеют, скажем, цветок, океан, другой человек и т.д.
Учение Фрейда, по Мэю, верно описывает биопсихические детерминанты, неофрейдисты дополнили его социальным учением, а сам Мэй добавляет к этому зданию верхний этаж - учение о внутреннем мире каждого человека. Вместе с тем он пишет о взаимном проникновении всех трех модусов, об одновременном существовании человека во всех трех измерениях. Фактически бытие природы и общества сведены у Мэя к бытию индивида. Они даны только как элементы бытия-в-мире; если исчезает воспринимающий человек, исчезает и мир 236 . В самом деле, если речь идет о моей субъективной картине мира, то она невозможна без меня самого и исчезнет вместе с моим исчезновением. Смысл, который я, в отличие от всех других людей могу придавать цветку или другой личности, также является моим смыслом. Мэй идет дальше и придерживается той точки зрения, что пространственно-временных континуумов имеется столько же, сколько индивидов, что говорить об объективном, не зависимом от сознания людей бытии невозможно. Бытие для Мэя - это бытие-в-мире, то
ш См.: Руткевич A.M. От Фрейда к Хайдеггеру: Критический очерк экзистенциального
психоанализа-М:Политиздат, I985.-C. 115.
Ю.В. Тихонравов
есть совокупность смысловых отношений между двумя полюсами: личностью и ее миром. В таком случае говорить о природе и обществе самих по себе нельзя: это природа и общество, какими они даны субъекту. Единственным миром, о котором можно говорить, оказывается собственный мир.
Обсуждению вопроса об экзистенциальном обосновании психотерапии Мэй посвятил несколько работ 237 . В качестве онтологических условий человеческого существования он рассматривает следующие структуры бытия-в-мире: центрированность, самоутверждение, соучастие, осознание, самосознание, тревога. Центрированность является базой отдельного, отличного от других существования. Речь идет об уникальности каждого индивида. Центрированность не является у человека предзаданной. Он должен иметь мужество видеть себя отдельным и независимым центром всего окружающего, утверждать себя в этом качестве. Таков смысл экзистенциала "самоутверждение", человек должен реализовать себя в выборе. Если центрированность указывает на уникальность каждого индивида, то соучастие раскрывает его необходимую соотнесенность с другими людьми. Невротические симптомы появляются, когда либо соучастие, либо центрированность доминируют. Изоляция от всех или полная поглощенность становятся тогда на место взаимоотнесенности автономных экзистенций. Субъективной стороной центрированности является, по Мэю, осознание (или "отдавание себе отчета" -awareness). Каждое живое существо наделено опытом самого себя, своих желаний, потребностей. Этот опыт имеется еще до ясного сознания и целесообразного действия. Самосознание Мэй считает присущим исключительно человеку. Наконец, в онтологическом чувстве тревоги человеку открывается возможность небытия.
Систему экзистенциалов Мэя можно рассматривать как попытку приблизить аналитику Хайдеггера к тому, что иногда называют "американским здравым смыслом". Мэй пишет не о каком-то "бытии-при-внутримировом-сущем", а о самоутверждении, самосознании, тревоге, которые в той или иной мере знакомы каждому человеку. Но в результате такого приземления онтологии Хайдеггера происходит полное смешение философских (онтологических) и конкретно-научных (онтических) категорий. Когда Мэй еще не был последователем Хайдеггера, он в какой-то мере придерживался социально-исторического
Особенно подробно в кн.: Existential Psychology /Ed. R.May.-N.Y,- 1961
Психотеология - Ролло Мэй
подхода и писал в "Смысле тревоги", что страх, тревога, вина являются переживаниями людей, характерными для определенных социально-культурных целостностей на определенных этапах их развития. Сделавшись же онтологом, он перенес в область экзистенциа-лов те чувства, которые испытывают его современники, в частности его пациенты.
Подобный характер имеет и концепция, изложенная в наиболее широко известной книге Мэя "Любовь и воля" (1969), которая стала в США "национальным бестселлером". Она содержит анализ любви и воли как фундаментальных измерений человеческого бытия в их исторической перспективе и актуальной феноменологии. Автор демонстрирует положение, согласно которому расширение горизонтов сознания достижимо только на пути возрождения единства любви и воли, в котором можно найти новые источники смысла существования в шизоидном мире. Любовь и воля признаются в этой книге необходимыми условиями человеческого существования. Мэй цитирует Тиллиха: "Любовь есть онтологическое понятие. Ее эмоциональный элемент является следствием ее онтологической природы". Однако о какого рода онтологии в данном случае идет речь? Современная психология, от имени которой выступает Мэй, не может в духе Эмпе-докла рассматривать любовь и ненависть в качестве управляющих всем миром сил. Христианское учение о милосердной любви также не может служить основанием для наук о человеке, поскольку это предполагало бы некритическое принятие догматов христианской религии.
Учение Мэя о любви задумано как снятие двух концепций: фрейдовской теории либидо и платоновского учения об Эросе. Мэй хочет доказать, "что они не только совместимы, но и представляют собой две половины, каждая из которых необходима для психологического развития человека" 238 . Фрейд уделил основное внимание биологическим предпосылкам любви, описал влияние прошлого на эмоции индивида. Но "регрессия" к биологической предыстории любви не объясняет ее самой. Учение Платона, в отличие от фрейдовского, полагает Мэй, дает "прогрессию": Эрос направлен в будущее. Мэй хотел бы соединить телесное (регрессивное) и духовное (прогрес-
MayR. Love and WilL-N.Y-l969.-P.88 .
Ю.В. Тихонравов
сивное) начала любви, указав на их общее основание, которым он считает интенциональность человеческой экзистенции.
Эрос, "творческая витальность", по Мэю, является глубочайшим импульсом человеческого существования. Это "стремление установить единство, полное взаимоотношение" 239 есть центр творческих способностей человека, "демоническое чувство", лежащее в основе экзистенции. Понятие "демоническое" толкуется Мэем в античном смысле: "демоническое может быть и творческим, и разрушительным, будучи в нормальном случае и тем, и другим" 240 . Демонический Эрос оказывается единством того, что ранее Мэй называл самоутверждением и соучастием. Это одновременно спонтанная витальность утверждающего себя индивида и основа межличностных отношений.
В качестве другого фундаментального свойства человеческого существования Мэй называет волю. Она пронизывает все бытие-в-мире, так как идентичным самому себе человек становится только в акте выбора. Темы возможности, свободы, решимости, тревоги, вины рассматриваются теперь Мэем в связи с волей как "базисной интенцио-нальностью экзистенции". Его размышления заставляют вспомнить о ницшеанской "воле к власти", хотя Мэй и далек от мысли, что власть над другими является признаком подлинности существования. Но многие темы "философии жизни" выходят в этой работе Мэя на первый план, поскольку и любовь, и воля становятся чертами некой изначальной витальности, выходящей за собственные пределы. Во взаимодействии желания и воли видит сущность человеческого бытия. Воля рассматривается как организующий принцип, требующий рефлексии, сознательного решения при реализации желаний. Правда, здесь Мэй вступает в противоречие с проводимой им самим мыслью о тождественности воли сфере интенциональности в целом. Тогда любое желание уже является проявлением воли и отпадает нужда в особом организующем желания принципе.
В интенциональности, направленности существования, его выходе за собственные пределы Мэй видит фундамент бытия человека. Интенциональные акты формируют те смысловые содержания, с которыми имеет дело человек. Это "наш способ осознания реальности", понимания мира и самих себя. Структура интенциональных актов определяет способ существования, бытие-в-мире каждого человека.
Психотеология - Ролло Мэй
Что касается цели психотерапии, то Мэй видит ее теперь в выявлении базисной интенциональной структуры пациента, которую необходимо довести до его сознания и помочь перестроить. Процесс терапии заключается, по его словам, в "соединении друг с другом трех измерений -желания, воли и решения" 241 . Пациента надо сначала научить переживать собственные желания, затем доводить их до сознания и принимать самого себя как автономную личность и, наконец, принимать целесообразное решение, с полной ответственностью утверждать себя в мире, изменяя тем самым структуру интенци-ональности. Человек представляется как свободная и определяющая себя в акте выбора экзистенция.
Одна из последних книг Мэя не зря получила название "Мужество творить" - к этому он призывает как своих пациентов, так и все человечество. Конечно, творчество было и остается идеалом человеческой деятельности. Однако, когда Мэй пишет о том, что каждая личность творит собственный мир, он имеет в виду не только то, что человеческая деятельность способна преобразовывать мир в соответствии с потребностями людей. Мир, по Мэю, меняется с преобразованием собственной точки зрения индивида.
Данное положение отразилось и на понимании психотерапии: она должна содействовать тому, чтобы пациент становился способным пересоздавать свои цели, ориентации, установки. Образцом для Мэя, как и для Бинсвангера, служит жизнь художника. Излечить от невроза - значит научить творить, сделать человека "артистом собственной жизни". Но, во-первых, если психическое здоровье и художественное творчество тождественны, то большую часть людей придется признать невротиками. Во-вторых, творчество лишь в редких случаях может оказаться средством излечения для тех, кто действительно болен. Ни усилия воли, ни творческие порывы большинству невротиков не помогут. Наконец, само человеческое творчество становится у Мэя какой-то демонической, магической силой, способной по воле человека изменять не только его цели и установки, но и всю окружающую действительность. Если принять предписания Мэя, можно уподобиться Дон-Кихоту и жить в фантастическом мире, который может быть прекрасным, но совершенно не соответствовать реальности.
Ю.В. Тихонравов
Выходит, что Пациенты Мэя только в воображении могут свободно и ответственно выбирать себя как великих художников 242 .
Этим Мэй не ограничивается. Подобно многим другим представителям гуманистической и экзистенциальной психологии, он призывает к "трансформации сознания". Книга "Мужество творить" тоже стала бестселлером, и по вполне понятным причинам. Время ее выхода - середина 70-х годов - было временем широкого распространения контркультуры, адепты которой уделяли большое внимание восточным религиям, медитации, психоделическим средствам типа ЛСД. Хотя Мэй, в отличие от некоторых других экзистенциальных аналитиков, достаточно осторожен в оценке таких средств трансформации сознания, речь у него идет о том же. Например, он пишет: "Экстаз является заслуженным древним методом трансцендирования нашего обыденного сознания, помогающим нам достичь инсайтов, иным путем недоступных. Элемент экстаза... является частью и предпосылкой любого подлинного символа и мифа: ибо, если мы подлинно соучаствуем в символе или мифе, мы на время "изъяты" и находимся "вовне" самих себя" 243 . Подобное соучастие становится для Мэя главной характеристикой подлинности человеческого существования. Отказ от позитивистской психологии, таким образом, приводит Мэя к мистицизму: за призывами "мужественно творить" оказывается сокрытой техника экстаза, соучастия в мифе и ритуале.
Мэй стал одним из наиболее последовательных сторонников отказа от позитивистских подходов в психологии. Не выходя за рамки гуманистического течения в целом, Мэй отмежевался от эклектизма своих коллег. Он полагал, что в познании онтологических характеристик человеческого существования позитивистские методы играют весьма незначительную роль.
Люди обращаются к психологии, писал Мэй, в поисках решения самых жгучих своих проблем: любви, надежды, отчаяния и тревоги, связанных со смыслом их жизни 244 . Психологи, тем не менее, избегают столкновений с этими сугубо человеческими дилеммами. Они объясняют любовь как сексуальное влечение; обращают тревогу в
42 См.: Руткевич A.M. От Фрейда к Хайдеггеру: Критический очерк экзистенциального
психоанализа.- М.: Политиздат, 1985.-С. 120..
""May R. The Courage to Create- N.Y.- 1978- P. 130.
will- N. Y.: W. W. Norton, 1969.- P. 18.
Психотеология - Ролло Мэй
физический стресс; утверждают, что наша надежда всего лишь иллюзия; отождествляют отчаяние с депрессией; сводят страсть к удовлетворению биологических потребностей и делают из приятной релаксации простую разрядку напряженности. Когда, наконец, в полном отчаянии люди смело и страстно действуют, влияя на свою судьбу, они называют это не более чем реакцией на стимул.
Современная психология, подчеркивал Мэй, не только замалчивает, но и упрощает сущностные аспекты собственно человеческого переживания 245 . Прикрываясь непререкаемостью той или иной методической процедуры, она избегает встречи с существенными сторонами человеческого бытия, которые так или иначе "срезаются" редукционистскими тенденциями объективного измерения. Если психология не может иметь дело со всем диапазоном непосредственного опыта человека и его дилеммами, заявлял Мэй, тогда представления о ней как о науке ошибочны.
В собственной программе гуманистической психологии Мэй утверждает, что психологам следовало бы отказаться от всех претензий на управление поведением и его предсказание и перестать игнорировать человеческую субъективность уже потому, что она не имеет аналогов в животном мире 246 . Наука, уклоняющаяся отданных, которые не соответствуют ее методам, - обороняющаяся наука. Любое психологическое исследование, предметом которого является человек, должно сосредоточиваться на целостной личности со всеми ее жизненными проблемами, а не только на животных, машинах, поведении или диагностических категориях. Наука о природе человека должна следовать гуманистической модели и изучать уникальные свойства людей-то, что он назвал "онтологические характеристики человеческого существования" 247 . Эти характеристики могли бы включать способность людей относиться к себе одновременно как к субъектам и объектам, выбирать и совершать этические поступки, мыслить, создавать символы и участвовать в историческом развитии своего общества.
Психологии, по Мэю, следовало бы взять на вооружение феноменологический подход и изучать людей в непосредственной данности, такими, каковы они есть в действительности, а не как проекции пси-
Ролло Мэй (1909-1994)
Для возникновения общего представления об экзистенциальной психологии, мы рассмотрим ее представителя в США. Ролло Мэя, также как и Виктора Франкла относят одновременно к гуманистическому течению психологии и экзистенциальному. Но, в разрезе темы курсовой, мы будем рассматривать его экзистенциальные взгляды.
Ролло Мэй, как и многие психологи, считает родоначальником экзистенциализма Кьеркегора. Но, он видит, что для американского общества экзистенциальная философия не является такой уж чуждой, ведь замечательный американский психолог Уильям Джеймс высказывал нечто подобное.
"Экзистенциальный подход очень близок, например, к мышлению Уильяма Джеймса. Возьмите, например, его акценты на непосредственность опыта и единство мышления и действия, акценты, которые были для Джеймса такими же важными, как и для Кьеркегора. "Для индивида истинно лишь то, что он лично воплотил в действии" - эти слова, провозглашенные Кьеркегором, хорошо знакомы многим из нас, воспитанным в духе американского прагматизма."
На практике Мэй не стремиться отделить экзистенциальную психологию от техник других направлений, объясняя свою позицию следующим образом: "Сомневаюсь, имеет ли смысл говорить об "экзистенциальном психологе или психотерапевте" в противовес другим школам; это не система терапии, а установка по отношению к терапии; не набор новых техник, а интерес к пониманию структуры человеческого бытия и его переживаний, который должен предшествовать всем техникам."
Суть подхода он видит в следующем: "Разница только в том, "рассматривать ли личность в терминах механизма" или "механизм в терминах личности". Экзистенциальный подход твердо выбирает последнее. И придерживается того мнения, что первый может быть включен в последний."
Как практикующий психотерапевт, Мэй убедился на своем опыте, что феноменологический подход имеет свои неоспоримые преимущества:
"Нам по необходимости приходится иметь дело непосредственно с бытием человека, который страдает, борется, переживает различные конфликты. Этот "непосредственный опыт" становится нашим естественным окружением, и дает нам как повод, так и данные для нашего исследования. Нам приходится быть подлинно реалистичными и "практичными" в том отношении, что мы имеем дело с пациентами, чьи тревоги и страдания не будут излечены теориями, какими бы блестящими они ни были, или какими бы то ни было всеобъемлющими абстрактными законами. Но посредством взаимодействия в процессе психотерапии мы получаем такую информацию и достигаем такого понимания человеческого бытия, которого невозможно было бы достичь каким-либо другим путем; никому не откроются глубинные уровни его существа, скрывающие его страхи и надежды, иначе как через болезненный процесс исследования его конфликтов, благодаря которому он имеет некоторую надежду на преодоление барьеров и облегчение страданий."
И еще: "Как раз здесь феноменология - первая стадия в экзистенциально-психологическом движении - для многих из нас будет полезным прорывом. Феноменология пытается принимать феномен как данное. Это дисциплинирующая попытка очистить мысли от предположений, которые так часто являются причиной восприятия нами в пациенте только собственных теорий и догм собственных систем, попытка взамен этого испытать феномен в своей реальной целостности. Это установка открытости и готовности слушать - аспекты искусства слушать в психотерапии, которое считается обычно само собой разумеющимся и кажется очень простым, но является чрезвычайно сложным."
Мэй утверждает, что диапазон актуальности классического психоанализа резко сузился в его время, начиная с 60х годов, времен, так называемой, "сексуальной революции" человек перестал страдать от подавленного либидо, но неврозов меньше не стало, они лишь приобрели новые причины. "В моей психотерапевтической практике появляется все больше и больше доказательств того, что тревога в наши дни появляется не столько из боязни нехватки либидозного удовлетворения или безопасности, сколько из боязни пациента своих собственных сил и конфликтов, возникающих из этого страха. Это может быть отличительной особенностью "невротической личности нашего времени" - невротический стереотип современного "управляемого извне" общественного человека"
Он видит причину невроза в том, что у человека забрали ответственность, тем самым делая его пассивным и слабым: "Это стало некой всеобъемлющей тенденцией, почти болезнью в середине XX века, видеть себя пассивным, считать себя продуктом сокрушительного воздействия экономических сил (как это параллельно Фрейду продемонстрировал Маркс с помощью блестящего анализа на социально-экономическом уровне). В последние годы эта тенденция получила подкрепление в форме убеждения человека в том, что он беспомощная жертва науки в виде атомной бомбы, относительно использования которой обычный человек чувствует себя неспособным что-либо сделать. Основная суть "невроза" современного человека в том, что он не чувствует себя в полной мере ответственным, в истощении его воли и решимости. И этот недостаток воли больше, чем просто этическая проблема: современный человек убежден в том, что, даже если он действительно напряжет свою "волю", это ничего не изменит."
Слабая воля приводит к проблемам выбора и принятия решений: "Но сейчас, когда большинство пациентов в той или иной форме оказываются "одержимыми", когда все знают об эдиповом комплексе, когда наши пациенты говорят о сексе так свободно, что это шокировало бы любого пациента Фрейда (а именно, разговор о сексе, вероятно, является легчайшим способом избежать реального принятия решения в любви и половых отношениях), проблема подрыва авторитета воли и принятия решения не может избегаться и далее. "Навязчивое действие", проблема, которая всегда оставалась непокоренной и неразрешенной в контексте классического психоанализа, на мой взгляд, тесно связана с дилеммой воли и принятия решения."
Такие люди чрезвычайно легко управляемы, через механизм стимул-реакция, это идеальные потребители и идеальные наемные работники. Мэй считает, что в здоровой личности всегда присутствует спонтанность, в отличие от невротика, действия которого в достаточной мере прогнозируемы. "Но хотя здоровая личность "предсказуема" в том смысле, что ее поведение целостно и совершаемые поступки зависят от характера, она всегда демонстрирует новые аспекты в своем поведении. Ее активности свежи, спонтанны, интересны, и в этом смысле ее поведение противостоит невротику с его предсказуемостью. В этом сущность творчества"
Итак, В данном параграфе мы рассмотрели идеи Ролло Мэя, американского психолога-экзистенциалиста, который как практикующий психотерапевт убедился, новое время создало новый тип невротической личности, человека с парализованной волей, который осознает себя пассивным, не чувствует ни свободы, ни ответственности. В такой ситуации на помощь приходит экзистенциальная психотерапия с ее феноменологическим подходом, которая подробно рассматривает личность в ее системе ценностей и помогает найти выход из того, что В. Франкл называл "экзистенциальным вакуумом". Такая психология возвращает человека самому себе и дает ему шанс на более осознанную и полноценную жизнь.